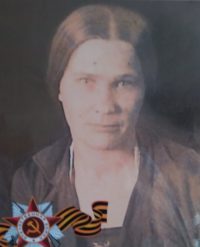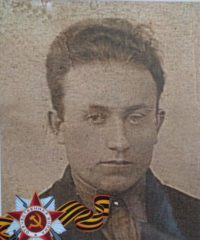Калужанка Нина Яковлевна Горпиненко в детстве пережила осаду Ленинграда
В ее рассказе на основе отрывочных детских воспоминаний отразились события тех героических и суровых лет.
Голод
Нина Горпиенко, в девичестве Чалова, родилась в июле 1938 года. Семья Чаловых жила в Выборгском районе, на Лесном проспекте. Когда началась война, Нине было три года. Старшая сестра, восьмилетняя Лида, успела окончить первый класс. Родители работали на ткацко-прядильной фабрике «Октябрьская». Отец, Яков Ильич, – ветеран Финской войны, как и все мужчины Ленинграда после работы на фабрике уходил рыть окопы для обороны города.
– В первую, самую страшную блокадную зиму 1941 года ушла из жизни бабушка, – вспоминает Нина Яковлевна. – Свои 125 граммов хлеба она делила на две части, заворачивала в марлю и отдавала нам с сестрой. Мы сосали эти кусочки, и чувство голода чуть притуплялось.
Когда закончилось сырье и не стало электричества, работа на фабрике остановилась. У мамы, Дарьи Селивёрстовны, была швейная машинка «Зингер», она принесла ее из дома в цех и шила для фабрики телогрейки, фуфайки, полушубки и обувь – бурки. Благодаря этому семья выжила.
Эвакуация
Весной 1942 года, когда Ладога очистилась ото льда, жителей начали эвакуировать. Чаловы пришли на пристань, ждали посадки на баржу. Нина Яковлевна вспоминает, что вокруг все кричали и суетились, и в толпе потерялась мама. Когда они нашли друг друга, посадка на баржу закончилась, и их погрузили на буксир. Как только отплыли, прилетел немецкий самолёт и сбросил бомбу. Баржа затонула, а люди на буксире чудом уцелели.
– После этого мама сказала, что никуда не поедет. Папа был уже очень слаб, и в июле его всё-таки вывезли из Ленинграда. Папа умер от истощения в Горьком (Нижнем Новгороде). Где его могила, мы не знаем до сих пор. Я нашла только кладбище, где предположительно он похоронен.
Чайник на патефоне
В блокадном Ленинграде 14–16-летние подростки трудились на заводах и фабриках наравне со взрослыми, строили оборонительные укрепления, гасили на крышах зажигательные бомбы. Были обязанности и у младших школьников – сестра Нины, Лида, и ее сверстники ходили по подъездам, проверяли, все ли живы.
– Мама целыми днями работала, а мы с сестрой должны были принести воду из Невы. Ни санок, ни тележки у нас не было. Возили воду на патефоне, который родители купили перед войной. Вниз к реке сестра везла меня на нем как на санках. Обратно в горку она тянула патефон, а я держала на нем чайник, чтобы не соскользнул. Иногда приходилось делать два рейса – вода была нужна и для мытья, и для стирки – водопровод и канализация не работали.
Нина Яковлевна помнит, как вместе с сестрой и соседскими ребятами добиралась на другой конец города, где были сожжённые бадаевские склады. Собирали обгоревшие деревяшки, на которых был расплавленный сахар. Люди брали там землю, заливали ее водой, процеживали, и получался «сироп». Землю с бадаевских складов даже продавали.
Маленькая Нина едва не стала жертвой людоеда – обезумевшего от голода соседа. К счастью, его жена заметила неладное и внимательно следила за ним, предупреждала и маму девочки: «Дарья, береги Нину!» Только после его смерти рассказала, в чем дело.
Без крыши над головой
Выборгская сторона – рабочий район, и немцы бомбили его особенно ожесточенно. Попала бомба и в дом, где жили Чаловы, семья осталась без крыши над головой. Людей, которые оказались в таком же бедственном положении, было много, они устраивались как могли – занимали чердаки, подвалы, по нескольку семей ютились в одной комнате.
– Какое-то время мы жили у маминых подруг, а потом нам дали общежитие при Октябрьской фабрике. Оно располагалось на набережной у Гренадерского моста в красивом готическом здании – бывшем особняке Нобеля. Для нас нашлась десятиметровая комната с голландской печкой для обогрева и забитым фанерой окном. Жили там вшестером: мы трое, женщина с шестилетним сыном и молодая девушка.
Вся жизнь проходила на огромной кухне – видимо, когда-то это был бальный зал. Теперь по стенам стояли столы, на них – керосинки, примусы, керогазы. Пока мама была на фабрике, Нина занимала очередь в прачечную, где кипятили с золой белье.
– Однажды сестра потеряла карточки, и нас целый месяц кормили соседи по общежитию, не дали пропасть. Когда в 1942 году через Ладогу проложили железную дорогу, стало легче: по карточкам давали не только хлеб, но и крупы, растительное масло, овощи, немного сахара. Весной 1942 года на каждом клочке земли в Ленинграде сажали овощи, на Исаакиевской площади росла капуста! Работникам Октябрьской фабрики тоже выделили маленькие клочки земли в ближайшем парке. Мы с мамой посадили там картофельные очистки и вырастили пару ведер картошки.
Маленькую, но отдельную комнатку семья получила только в 1950 году, когда Лида вышла замуж и родила сына.
Пискарёвка
Зимой 1941 года в Ленинграде погибло от голода очень много людей. Нина Яковлевна помнит, как тела умерших с улицы и из квартир сносили в кочегарку во дворе. Весной они начали оттаивать, и надо было срочно их вывозить. Приехала газогенераторная машина, тела погрузили в кузов, накрыли брезентом.
– Мы с сестрой и соседскими ребятами стали просить водителя прокатить нас, обещали кидать в топку машины деревянные чурочки. Ехали долго, а когда приехали, я увидела огромные страшные рвы. По краям их стояли такие же машины, как наша, и прямо из кузовов сбрасывали мертвые тела в эти братские могилы. Мне вдруг показалось, что сейчас и я упаду туда, испугалась, стала кричать, плакать. Страшная картина врезалась в память на всю жизнь. Потом я узнала, что это было Пискаревское кладбище.
Пленные
Нина Яковлевна говорит, что для ленинградцев самое страшное закончилось 27 января 1944 года, когда сняли блокаду. В городе появилось много пленных немцев, которые разбирали разрушенные дома, восстанавливали то, что возможно было восстановить. Несмотря на все испытания и потери, блокадники не были озлоблены на пленных.
– Мне было уже шесть лет. Я ходила в магазин отоваривать карточки мимо стройплощадки, где работали пленные. Заметила, что на меня часто смотрит через забор один и тот же немец, как будто караулит, когда я пойду мимо. Однажды я получила хлебный паёк – кусок побольше и маленький довесок. Возвращаюсь, а возле забора опять стоит этот немец. Я подумала, что он голодный, подошла и отдала ему довесок. Он взял, и у него из глаз полились слезы. Я испугалась и убежала домой, рассказала все маме. Думала, она будет ругать, но мама промолчала, только погладила меня по голове. На следующий день я опять пошла за хлебом, а немец ждал у забора. Он помахал рукой, подзывая меня, и отдал сверток в газете. Там оказался шерстяной подшлемник и маленькая деревянная куколка. Видно, заметил, как я мерзну в своей когда-то пуховой, но совсем облезшей шапочке.
Всю жизнь Нина Яковлевна Горпиненко хранит память о трагедии и подвиге ленинградцев. Она выступает перед школьниками, участвовала в проекте Андрея Кончаловского «История от первого лица» и надеется вновь выйти на улицы города вместе с «Бессмертным полком».
Екатерина ШЕВЕЛЕВА
Фото пресс-службы Городской Думы и из архива Нины Яковлевны Горпиненко