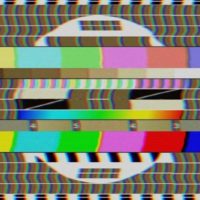Продолжаем исследовать окрестности Калуги. Однажды мы уже прошлись от Щемиловки к Подолу, затем через Ясли поднялись к Завершью. Все эти названия рассказывают о рельефе местности, на которой раскинулся старый центр города, его ядро. Гидроним Жерелка поведал о геологическом строении местности, по которой протекает речка. Сегодня продолжим путешествие по окрестностям города, пройдемся по правому и левому берегам Оки.
Начнем с того самого центра, где мы уже бывали, и спустимся с Завершья в Березуйский овраг. Ему посвящено много работ историков и краеведов. Не претендуя на открытия, просто коснемся самого названия ручья, давшего имя этому живописному уголку старого города.
«Первое упоминание калужского Березуя относится к концу 16 века, – уточняет краевед Юрий Юрьев. – Именно тогда были сделаны первые, дошедшие до нас описания города. Именовалась речушка по-разному, но в основном это было либо речка Березуйка, либо ручей Березуй».
Видимо, название связано как-то с зеленым убранством оврага, например, с росшими по его склонам березами. Из книги Дмитрия Малинина мы знаем, что зеленые «насаждения в овраге и по сторонам были произведены по распоряжению губернатора Смирнова». Как выглядел он до этого и какие деревья там росли, неизвестно.
Березуйский овраг в XVIII веке изучал академик Василий Зуев, на которого Малинин тоже ссылается. В своем отчете «Путешественныя записки Василья Зуева от С. Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 году» исследователь пишет:
«В городской части есть глубокий буерак, из известкового камня состоящий, по которому течет небольшой ручей, называемый Березуйка, в коей вода хотя берется не издалека, по большей части из его же сторон скопляется, однако, по причине отменной прозрачности и холодности от прочих буерачных вод отменно уважается».
Описания зеленого убранства оврага Зуев не дает.
Калужский краевед Александр Вусович в своем курсе родиноведения 1886 года отмечает только, что скаты Березуйского и Жировского оврагов – «с красивой древесной растительностью».
Тем не менее, этимологи единодушны в своих выводах о происхождении названия Березуй. Известный топонимист, доктор филологических наук Владимир Нерознак в работе «Названия древнерусских городов» отмечает, что Березуй безусловно относится к березе, а сама «топооснова березуй- широко представлена в целом ряде топонимов Поочья». И действительно, кроме калужского Березуя мы встречаем речки Большой и Малый Березуи в Дзержинском районе.
Но все-таки кое-что таинственное в этом топониме есть. Причем оно связано с березой, как деревом, имеющим в славянской народной культуре особое, символическое значение. Сошлемся здесь на энциклопедию «Славянские древности», в которой отмечается, что дерево это в том числе связано с древним культом предков. В березу по некоторым поверьям, вселяются души умерших. Уточняется, что именно в калужском крае об умирающем человеке говорили: «В березки собирается». Кое-где, но это не повсеместно, береза имела связь и с лешим. И в этом свете топонимы Березуй начинают выглядеть не просто как обозначение места, где растут или когда-то росли березы.
Теперь отправимся на северную окраину Калуги в деревню Кукареки. Этот топоним вроде бы совершенно прозрачен. Но лишь на первый взгляд. Оказывается, что никакого отношения к домашней птице он не имеет. Стоит эта деревенька, входящая ныне в черту города, на берегу небольшой речки, притока Киёвки, которая, если судить по описанию Калужского уезда 1631 года, назывался Кокорекой. Вроде бы тоже что-то похожее на песнь петушка.
Здесь мы обратимся к исследованию, которое много лет назад провел мосальский краевед и журналист Анатолий Зайцев, занимавшийся изучением калужских топонимов. Вот что писал он в статье, опубликованной в 2010 году в газете «Весть»:
«…еще до образования губернии эта деревня называлась в единственном числе – Кокорека. Там же располагалась Кокоревская пустошь. Тогда будет совсем другой корень, как, к примеру, в фамилиях Кокорев и Кокорин, которые произошли от слова «кокоръ» и «кокора» – вывороченный пень, кривое дерево с сучьями, принесенное течением реки или ручья. В переносном значении – упрямый, своенравный человек или сутулый, кривоногий. Деревня могла получить название от пустоши с кокорой как примечательной чертой местности или по человеческому прозвищу с этим же корнем».
Заглянем в «Словарь русских народных говоров». В нем мы встретим десятки слов с основой кокор, которые означают искривленный ствол дерева или пень с сучьями и корнями, поваленное ветром дерево, вынесенное на берег реки. Слово кокористый действительно означает своенравного, упрямого человека. Целый ряд народных терминов с корнем кокор означают и материал, использовавшийся в речном судостроении. Так что выводы Анатолия Зайцева представляются убедительными. Что же до названия Кукареки, то оно, видимо, возникло значительно позже, когда память о Кокоревской пустоши или вывороченных с корнем кривых деревьях и пнях по берегам речки – кокорах ушла в прошлое.
Еще одно интересное название – Можайка. Это правый приток Оки и урочище с тем же названием. Самое раннее документальное свидетельство о ней встречаем в планах генерального межевания от 1782 года и приложенном к ним экономическом описании:
«Сикiотова по обѣ стороны рѣчки Можайки» с двумя безымянными отвершками по обоим берегам.
Следующее упоминание – в «Списке населенных мест 1859 года» под номером 383: «Секіотова (Сикивотова), д. вл. при рч. Можаѣ».
Более ранних упоминаний Можаи или Можайки наш архивариус Юрий Юрьев не отыскал.
Интересно, что Можая – более ранняя форма, чем Можайка. Значит, обе формы названия какое-то время сосуществовали в речи местных жителей, что может говорить о древности калужского гидронима.
Кстати, этимологи прояснили это название в связи с историей города Можайска, стоящего на берегу речки, называвшейся в разные времена Мжаей, Можаей, Мажаей, а позднее и Можайкой. По мнению археолога Валентина Седова, «название речки Можайки, давшей имя городу, происходит от балтского слова «mazoja», то есть малая». Подтверждением возможного балтского происхождения Можайки могут быть две речки Mažupe в Литве и Латвии. В Латвии есть и речка Mazupite. Корни maž и maz в литовском и латышском языках имеют значение малый, маленький.
Точку зрения выдающегося археолога, ссылавшегося, кстати, на исследования не менее выдающегося историка языка Владимира Топорова, оспаривают можайские краеведы, полагающие, что название Можайка может происходить не от балтского mazoja, а от мерянского мазый-ава – красивая девушка. В качестве подтверждения своего предположения они приводят в пример деда Мазая из некрасовского стихотворения, обрусевшего мордвина (мазы по-мокшански и по-эрзянски – красивый, красивая).
Но если подмосковная Можайка протекает по местам, где до славян, кроме балтов, обитали и финно-угорские племена, то в Калужской области следы финно-угорских поселений обнаруживаются лишь на севере от Калуги, что подтвердил нам калужский археолог Игорь Болдин. Все, что южнее, относится к мощинской культуре древних балтов. И если название Можая сохранилось со времен балтского заселения территории современной Калужской области, то его можно считать балтским по происхождению.