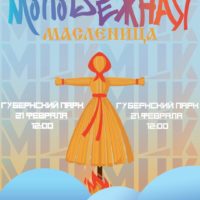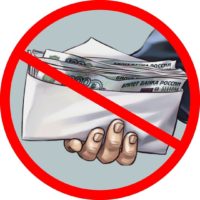Калужский ТЮЗ к 80-летию Победы представил спектакль «В списках не значился» по повести Бориса Васильева
Главный герой – Николай Плужников (Павел Скоров), он только что получил лейтенантское звание. Перед зрителями разворачиваются два периода его жизни – последние мирные дни в июне 41-го и осада Брестской крепости, в списках гарнизона которой он не значится.
Режиссер спектакля – Дмитрий Турков, выпускник Новосибирского театрального училища и Щуки, актер и режиссер. До работы с Калужским ТЮЗом он ставил спектакли в театрах Перми, Архангельска, Челябинска, Санкт-Петербурга, Красноярска.
Мир
 Атмосферой какой-то особенно бурной и неувядающей счастливой жизни пронизан первый акт. Сирень, соседские девчонки, которые вдруг расцвели и похорошели, свеженькая форма младшего лейтенанта, удачное назначение в Особый Западный округ… Но в этом кажущемся безоблачным счастье чувствуется тревога.
Атмосферой какой-то особенно бурной и неувядающей счастливой жизни пронизан первый акт. Сирень, соседские девчонки, которые вдруг расцвели и похорошели, свеженькая форма младшего лейтенанта, удачное назначение в Особый Западный округ… Но в этом кажущемся безоблачным счастье чувствуется тревога.
Катастрофа надвигается постепенно, но неотвратимо. Когда соседская девушка Валя (Анна Костина) спрашивает Николая, заехавшего повидать родных в Москву, насколько серьезна обстановка и будет ли война, Николай отвечает ей так, как писала бы газета «Правда». И техники у нас много, и врага, если что, на его территории побьем! Все эти реплики произносит не сам Коля, а «голос за кадром» (Сергей Васин), и звучат они как лозунги. Этакое самоуспокоение, нежелание видеть очевидное.
По мере приближения Николая к месту службы тревога нарастает. Очень показателен эпизод, когда, прибыв в Западную Белоруссию, он видит в ресторане развалившегося на стуле немца с пивными кружками. Тот чувствует себя хозяином на этой земле. Громкий крик «Шнелля!», которым немец прогоняет женщин с детьми, страшен. Ведь скоро это «Шнелля!» будет звучать на родной земле уже не из уст человека с пивным пузом, и совсем не карикатурные немцы будут творить здесь бесчинства. Но пока это всё еще не осознано в должной мере. Даже вечно гонимые евреи – скрипач (Кирилл Ланцев), его племянница Мирра (Евгения Сотскова), извозчик (Иван Денисов) – говорят, что и им стало легче жить и дышать.
И они не знают, что скоро скрипачу на одежду нашьют звезду Давида как клеймо, а Мирру убьют…
Война
На пол, имитируя взрыв, с грохотом падают солдатские каски – и мир кончается… Начинается новая история – история взросления необстрелянного юнца, сбежавшего с позиции, почти дезертира, которого от расстрела спасает лишь то, что надо экономить патроны. Проходя страшное испытание войны, он становится тем самым одним в поле воином, последней каплей крови Брестской крепости, которого немцы называют русским фанатиком.
Мы видим, как Коля, перебарывая себя, теряя товарищей, учится выбирать, что важно, а что нет, принимать решения, брать на себя ответственность. Удачен и образ друга Николая – бойца Сальникова (Владимир Киселёв). В нем отразилось то самое русское «врёшь – не возьмёшь», когда против превосходящих сил противника можно биться и саперной лопаткой. А сцена, в которой он закрывает собой Плужникова, потрясает. Ощущаешь себя там, с ними, в этой воронке от снаряда.
 Прекрасна и трагична история любви Коли и Мирры. Начавшаяся с неприятия и подозрений, среди ужасов и разрушений она становится историей счастья и боли двух людей. Мирра, ждущая ребенка, ради его спасения пытается выйти из крепости. Но этому не суждено быть. Она произносит последние слова о любви, о счастье… Кольцо фашистов сжимается… Всё заливает красный свет, звучат выстрелы. К горлу подкатывают слезы.
Прекрасна и трагична история любви Коли и Мирры. Начавшаяся с неприятия и подозрений, среди ужасов и разрушений она становится историей счастья и боли двух людей. Мирра, ждущая ребенка, ради его спасения пытается выйти из крепости. Но этому не суждено быть. Она произносит последние слова о любви, о счастье… Кольцо фашистов сжимается… Всё заливает красный свет, звучат выстрелы. К горлу подкатывают слезы.
Ещё одна грань любви, которая в полной мере раскрывается во втором действии, – это материнская любовь. Она показана через образ матери главного героя (Татьяна Гусева). В сценах осады Брестской крепости она появляется, чтобы ободрить испытывавшего страх Колю, напомнить, что нужно поесть. Для нее он в первую очередь родной сын, ей важно, что он не ранен и сыт. И эти появления – отражение её дум о сыне, но дум деятельных, почти молитвенных.
Есть вопросы
Не могу не отметить в постановке несколько нюансов, которые меня смутили. В частности, сцена, когда немецкие солдаты поют песню «Любимый город может спать спокойно». На мой взгляд, это лишнее и выглядит двусмысленно. Ведь эту же песню поют женщины, а затем с нежностью укрывают своими платками спящих во время краткого отдыха наших воинов. Она – символ молитвы и веры тех, кто ждет их дома.
В некоторых сценах мне не хватало какой-то докрученности. Кое-где хотелось, чтобы слова, жесты были доведены до абсолюта. Впрочем, это вопрос наигранности пьесы, и со временем, полагаю, такое ощущение уйдет.
На мой взгляд, много лишних людей в финальной сцене, когда Николай Плужников, ослепший и поседевший, стоит перед немцами и говорит: «Я русский солдат», а те отдают ему честь. Этот момент смотрелся бы выигрышнее, если бы на сцене были только немцы (в черном) и только Плужников (в белом, противопоставлен им).
До мурашек
Воспринимать спектакль в режиме «здесь и сейчас», когда актеры меняют маски прямо на сцене, герои проговаривают и свои реплики, и слова от автора, на ходу трансформируют сцену, бывает непросто. Но к этому привыкаешь и начинаешь понимать, что это оправдано.
Интересный ход – спектакль идет под живую музыку. На сцене есть место для музыкантов. Они обеспечивают и некоторые сценические шумы, например бой часов.
Цветовое решение тоже обращает на себя внимание – противопоставление черного и белого. И это не только «наши» – «фашисты». Белые одеяния, в которые одеты все без исключения, напоминают исподнее, нательное белье. То есть перед нами человек как он есть. На это исподнее надевают ремни, кобуры, гимнастерки – и создаются образы. Да и форма военная тоже белая – не то выцветшая и вылинявшая от солнца, пота, ветра, не то… В последний путь ведь надо одеваться в чистое, белое. Так, может, все они – погибшие? Мы видим историю, рассказанную теми, кого уже нет.
 Финальный вокализ пробирает до мурашек. Здесь действительно не нужна никакая музыка. Люди в белых одеждах начинают спектакль и заканчивают его. И слова «это моя рота», которыми открывается первое действие, по-новому осознаются именно в этот момент. В этой роте – люди разных возрастов, мужчины и женщины, это уже не армейское понятие. Эта рота – весь народ, выстоявший в ту страшную войну, давший отпор врагам на фронте и в тылу, эта рота – те, кто отдал свои жизни во имя Победы.
Финальный вокализ пробирает до мурашек. Здесь действительно не нужна никакая музыка. Люди в белых одеждах начинают спектакль и заканчивают его. И слова «это моя рота», которыми открывается первое действие, по-новому осознаются именно в этот момент. В этой роте – люди разных возрастов, мужчины и женщины, это уже не армейское понятие. Эта рота – весь народ, выстоявший в ту страшную войну, давший отпор врагам на фронте и в тылу, эта рота – те, кто отдал свои жизни во имя Победы.
В финальной фразе спектакля – строке из пасхального тропаря «Смертию смерть поправ» – заключается весь смысл. Сражаясь насмерть, положив жизнь свою за други своя, ты попираешь эту самую смерть, потому что в этот момент ты шагаешь в вечность.
P.S. Когда вышла из зала, небо было чистое, сияло солнце. А внутри у меня будто образовалась воронка от взрыва. Кругом жизнь, люди, дети, машины… А я чувствовала себя так, словно сама сходила на войну. Думаю, в этом и есть смысл и посыл этой постановки.
Дарья ЛЕОНТЬЕВА
Фото Сергея Гришунова